РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Филипп
Хайтович:
Разговоры
за мозг
Хайтович:
Разговоры
за мозг
(Осторожно! В этом тексте слово «мозг» встречается 78 раз)
РАЗГОВОРЫ
ЗА ЖИЗНЬ
ЗА ЖИЗНЬ
Филипп
Хайтович:
Разговоры
за мозг
Хайтович:
Разговоры
за мозг
(Осторожно! В этом тексте слово «мозг» встречается 78 раз)
Сколтех в партнёрстве с Российским научным фондом (РНФ) запустил новый медиапроект «Разговоры за жизнь» — цикл интервью с ведущими учёными, которые изучают жизнь (во всех смыслах этого слова). «Кот Шрёдингера» присоединился к проекту и стартует с беседы нашего редактора с нейробиологом Филиппом Хайтовичем.
Беседовал Никита Лавренов
Беседовал Никита Лавренов
Филипп Ефимович Хайтович — PhD в биохимии, профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации им. Сколтеха
6:20 — звук будильника. Мозг просыпается неохотно.
6:30 — кофе. Кофеин блокировал аденозиновые рецепторы, и мозг получает меньше тормозящих сигналов. Всего лишь каскад биохимических реакций — топорная манипуляция якобы самым сложным органом, — и журналист готов ехать на беседу про мозг к профессору Сколтеха, одному из ведущих нейробиологов мира Филиппу Хайтовичу.
«Прошу прощения за странный вопрос — я тут влюбился недавно, и мозг мой порой становится прямо как сахарная вата. Думать невозможно. Что там в нём творится? Это пресловутый окситоцин со мной творит такое?» — спрошу я героя под конец беседы.
«Ну как наука может залезть к вам в мозг и понять, что там в разных состояниях происходит? У молекулярных нейробиологов подходящих методик пока нет, — улыбаясь и немного с сожалением ответит профессор Хайтович. — У томографов слишком много ограничений: плохое пространственное разрешение, да и временное тоже. А про окситоцин и серотонин, о которых вы говорите, известно в основном по исследованиям на крысах и мышах…»
9:50 — сажусь в такси. Ехать предстоит от главного здания МГУ, оплота отечественных традиций академизма, в передовой и инновационный Сколтех. Водитель, мужчина лет шестидесяти, нарочито игнорирует навигатор и везёт своим маршрутом. Спрашиваю: «Вы местный?» — «Да, родился и вырос на Ленинском, все дороги тут знаю. Навигаторам этим современным не доверяю. Сам быстрее довезу».
И правда, зачем ему этот навигатор? Исследования показывают, что у водителей, которые пришли в профессию ещё в эпоху бумажных карт, связей в гиппокампе — похожем на морского конька отделе мозга в височной доле коры больших полушарий — больше, чем у среднестатистического человека. И сам гиппокамп порой больше. Этим органом мы активно пользуемся при ориентировании на местности, выстраивая ментальные карты пространства. Возможно, поэтому таксист привёз меня на 12 минут раньше расчётного времени.
6:30 — кофе. Кофеин блокировал аденозиновые рецепторы, и мозг получает меньше тормозящих сигналов. Всего лишь каскад биохимических реакций — топорная манипуляция якобы самым сложным органом, — и журналист готов ехать на беседу про мозг к профессору Сколтеха, одному из ведущих нейробиологов мира Филиппу Хайтовичу.
«Прошу прощения за странный вопрос — я тут влюбился недавно, и мозг мой порой становится прямо как сахарная вата. Думать невозможно. Что там в нём творится? Это пресловутый окситоцин со мной творит такое?» — спрошу я героя под конец беседы.
«Ну как наука может залезть к вам в мозг и понять, что там в разных состояниях происходит? У молекулярных нейробиологов подходящих методик пока нет, — улыбаясь и немного с сожалением ответит профессор Хайтович. — У томографов слишком много ограничений: плохое пространственное разрешение, да и временное тоже. А про окситоцин и серотонин, о которых вы говорите, известно в основном по исследованиям на крысах и мышах…»
9:50 — сажусь в такси. Ехать предстоит от главного здания МГУ, оплота отечественных традиций академизма, в передовой и инновационный Сколтех. Водитель, мужчина лет шестидесяти, нарочито игнорирует навигатор и везёт своим маршрутом. Спрашиваю: «Вы местный?» — «Да, родился и вырос на Ленинском, все дороги тут знаю. Навигаторам этим современным не доверяю. Сам быстрее довезу».
И правда, зачем ему этот навигатор? Исследования показывают, что у водителей, которые пришли в профессию ещё в эпоху бумажных карт, связей в гиппокампе — похожем на морского конька отделе мозга в височной доле коры больших полушарий — больше, чем у среднестатистического человека. И сам гиппокамп порой больше. Этим органом мы активно пользуемся при ориентировании на местности, выстраивая ментальные карты пространства. Возможно, поэтому таксист привёз меня на 12 минут раньше расчётного времени.
Самая сложная система
Беседа с Филиппом Хайтовичем началась в беседке у пруда в окружении старых берёз, выросших явно до заложения первого камня Сколковского института науки и технологий. «Разговор за жизнь» начался с банального — с пути в науку.
— В 1995-м вы окончили биофак МГУ, потом получили PhD в Университете Иллинойса, работали в Институте Макса Планка... И у меня возник вопрос: почему в начале 1990-х — столь сложное время — вы решили пойти на факультет, который ведёт в фундаментальную науку? Я тоже окончил биофак, но значительно позже, и старшие коллеги рассказывали о трудностях с зарплатой в то время, о том, как в столовых бесплатно раздавали квашеную капусту с чёрным хлебом, чтобы поддержать сотрудников хоть как-то…
— Если честно, я просто не понимал, что происходит. Поэтому у меня даже мыслей не возникало, что что-то может настолько радикально измениться.
— А почему в биологию пошли?
— Я никогда не отличался способностями к математике, поэтому такие науки, как математика, физика, были для меня слишком сложными. Способностей к гуманитарным наукам я тоже не проявлял. Химия требовала больших усилий. Поэтому оставалась либо медицина, либо биология. Медицины я просто испугался: это большая ответственность — работать с людьми. Вопросы жизни и смерти. Так что другого выбора, в общем-то, и не было.
— Почему именно мозгом решили заниматься?
— Я начал им заниматься после того, как окончил аспирантуру. Понимаете, когда уже начинаешь работать над каким-то направлением после учёбы, изменить его радикально становится сложно, потому что существует конкуренция. В принципе, это был мой последний шанс выбрать направление, которым я бы занимался всю оставшуюся жизнь. И, конечно, даже с обывательской точки зрения человеческий мозг — один из самых интересных объектов.
— В 1995-м вы окончили биофак МГУ, потом получили PhD в Университете Иллинойса, работали в Институте Макса Планка... И у меня возник вопрос: почему в начале 1990-х — столь сложное время — вы решили пойти на факультет, который ведёт в фундаментальную науку? Я тоже окончил биофак, но значительно позже, и старшие коллеги рассказывали о трудностях с зарплатой в то время, о том, как в столовых бесплатно раздавали квашеную капусту с чёрным хлебом, чтобы поддержать сотрудников хоть как-то…
— Если честно, я просто не понимал, что происходит. Поэтому у меня даже мыслей не возникало, что что-то может настолько радикально измениться.
— А почему в биологию пошли?
— Я никогда не отличался способностями к математике, поэтому такие науки, как математика, физика, были для меня слишком сложными. Способностей к гуманитарным наукам я тоже не проявлял. Химия требовала больших усилий. Поэтому оставалась либо медицина, либо биология. Медицины я просто испугался: это большая ответственность — работать с людьми. Вопросы жизни и смерти. Так что другого выбора, в общем-то, и не было.
— Почему именно мозгом решили заниматься?
— Я начал им заниматься после того, как окончил аспирантуру. Понимаете, когда уже начинаешь работать над каким-то направлением после учёбы, изменить его радикально становится сложно, потому что существует конкуренция. В принципе, это был мой последний шанс выбрать направление, которым я бы занимался всю оставшуюся жизнь. И, конечно, даже с обывательской точки зрения человеческий мозг — один из самых интересных объектов.
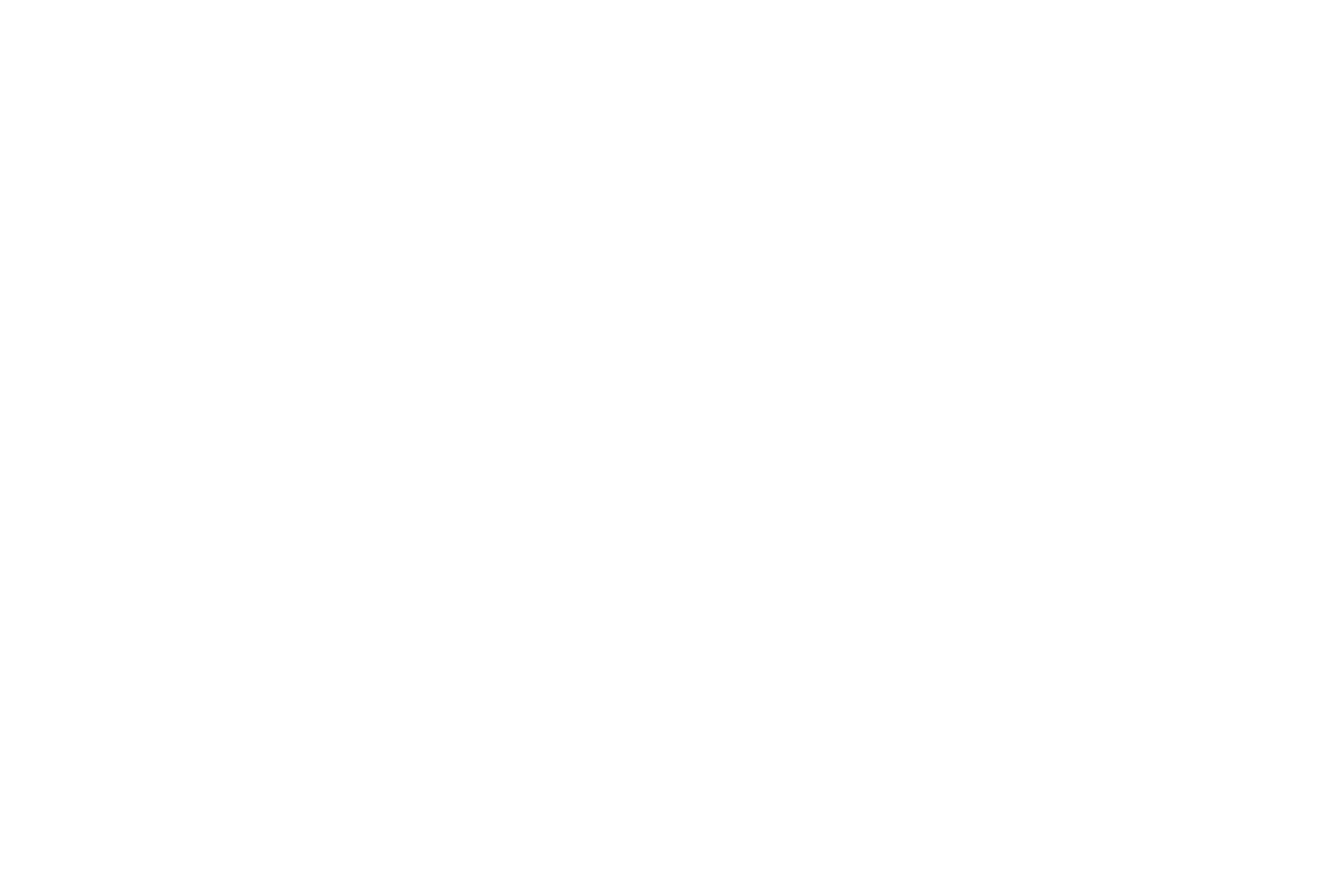
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— В популярных материалах мне часто встречался тезис, что, мол, мозг — крайне сложно устроенная структура и что сознанием, продуктом этого самого мозга, невозможно понять, что есть сам мозг. Разделяете вы такую позицию?
— Можно задаваться такими вопросами в философском плане, но я к этому подхожу более прагматично. Все биологические системы сложные, а мозг, особенно человеческий, — одна из самых сложных. Тем не менее у нас появляются инструменты, чтобы его исследовать, и глупо было бы не попробовать.
— То есть мозг действительно можно считать самой сложной системой?
— Да, и это не будет заблуждением. Другие органы и ткани тоже сложно устроены, особенно такие нетривиальные, как печень, почки, лёгкие. Но мозг — он особенный. Он гораздо более многофункциональный. Ведь его задача — обеспечить адекватное взаимодействие организма с внешней средой и с другими особями вида своего владельца.
— Можно задаваться такими вопросами в философском плане, но я к этому подхожу более прагматично. Все биологические системы сложные, а мозг, особенно человеческий, — одна из самых сложных. Тем не менее у нас появляются инструменты, чтобы его исследовать, и глупо было бы не попробовать.
— То есть мозг действительно можно считать самой сложной системой?
— Да, и это не будет заблуждением. Другие органы и ткани тоже сложно устроены, особенно такие нетривиальные, как печень, почки, лёгкие. Но мозг — он особенный. Он гораздо более многофункциональный. Ведь его задача — обеспечить адекватное взаимодействие организма с внешней средой и с другими особями вида своего владельца.
Молекулярная археология трупных мозгов
Филипп Хайтович изучает мозг на самом базовом уровне его организации — молекулярном. Психиатрия и психологи, например, фокусируются исключительно на его высших психических функциях. Анатомы и психофизиологи раскраивают мозг на функциональные зоны, подобно лоскутному одеялу, и смотрят, как и над чем эти зоны работают. Другие специалисты, например цитологи, смотрят на клеточную организацию и процессы, протекающие внутри клеток мозга. А учёные, подобные нашему герою, разбираются с молекулярным портретом самого сложного органа.
— Ваши исследования, насколько я понял, связаны с регуляцией активности генов в мозге, да?
— Мы стараемся изучать разные вещи, то есть… Смотрите, как всегда в биологии и было, мы ограничены инструментарием. Вот появился когда-то микроскоп — и биологам открылась новая вселенная. Потом появились методы расшифровки генома. Теперь у нас есть инструменты оценки экспрессии [активности. — прим. «КШ»] генов. Наша группа занимается молекулярным составом мозга. Но мы берём не живой мозг, а мозг, в котором активности уже нет.
— То есть от трупов?
— Да. И просто смотрим, из чего, из каких стройматериалов он сделан.
— Как археологи на руинах?
— Именно! Словно откопали какое-то здание и по трубам, планировке, забытым инструментам пытаемся воссоздать, какая активность в этом здании происходила.
Чтобы понять динамику мозга, нам нужно сравнивать его в разных состояниях. Тут можно выделить три главных направления. Первое — развитие и старение. Изначально наш мозг наделён не всеми своими функциями: они развиваются вместе с мозгом, а во время старения, наоборот, частично утрачиваются.
С потерями функций связано второе направление — медицинское. Мы можем сравнивать мозг здоровых людей и, например, страдающих шизофренией, депрессией, расстройствами аутистического спектра, а затем разбираться, с какими маркерами эти расстройства связаны, какие молекулярные поломки к ним ведут.
Третье направление — эволюционное, когда мы сравниваем мозг человека с мозгом шимпанзе и более далёких родственников. В одной из работ мы совместили онтогенетический подход и эволюционный — это дало больше информации о том, что именно отличает мозг человека. Причём не уже сформировавшийся мозг, а как отличается его развитие.
— Ваши исследования, насколько я понял, связаны с регуляцией активности генов в мозге, да?
— Мы стараемся изучать разные вещи, то есть… Смотрите, как всегда в биологии и было, мы ограничены инструментарием. Вот появился когда-то микроскоп — и биологам открылась новая вселенная. Потом появились методы расшифровки генома. Теперь у нас есть инструменты оценки экспрессии [активности. — прим. «КШ»] генов. Наша группа занимается молекулярным составом мозга. Но мы берём не живой мозг, а мозг, в котором активности уже нет.
— То есть от трупов?
— Да. И просто смотрим, из чего, из каких стройматериалов он сделан.
— Как археологи на руинах?
— Именно! Словно откопали какое-то здание и по трубам, планировке, забытым инструментам пытаемся воссоздать, какая активность в этом здании происходила.
Чтобы понять динамику мозга, нам нужно сравнивать его в разных состояниях. Тут можно выделить три главных направления. Первое — развитие и старение. Изначально наш мозг наделён не всеми своими функциями: они развиваются вместе с мозгом, а во время старения, наоборот, частично утрачиваются.
С потерями функций связано второе направление — медицинское. Мы можем сравнивать мозг здоровых людей и, например, страдающих шизофренией, депрессией, расстройствами аутистического спектра, а затем разбираться, с какими маркерами эти расстройства связаны, какие молекулярные поломки к ним ведут.
Третье направление — эволюционное, когда мы сравниваем мозг человека с мозгом шимпанзе и более далёких родственников. В одной из работ мы совместили онтогенетический подход и эволюционный — это дало больше информации о том, что именно отличает мозг человека. Причём не уже сформировавшийся мозг, а как отличается его развитие.
Что делает человеческий мозг человеческим и мозгом
В теле среднестатистического человека около 30 триллионов клеток. Все они обладают идентичной генетической информацией, однако одни становятся, например, клетками печени, а другие — нейронами. Человеческий мозг отнюдь не самый большой по числу клеток среди животного царства, однако по сложности организации равных ему нет.
— Если мы посмотрим на совсем базовом уровне, то клетки печени от клеток мозга будут отличаться набором активных генов. И они должны «ответвиться» от базового, эмбрионального уровня и активировать тот набор генов, который характерен для их типа ткани.
Но существует ещё механизм сплайсинга. На ранних стадиях эмбриогенеза клетки его почти не используют. Ткани почек и печени почти не используют этот механизм и во взрослом организме, то есть сохраняют ту же структуру генов, что и в зародыше.
Мозг же, по-видимому, не мог бы быть столь сложным без альтернативной регуляции. Он начинает применять этот механизм на ранних стадиях эмбрионального развития. Скорее всего, альтернативный сплайсинг позволяет структурам быстрее эволюционировать. Даже по сравнению с ближайшими родственниками — обезьянами человек начинает использовать более разнообразные формы сплайсинга.
— Если мы посмотрим на совсем базовом уровне, то клетки печени от клеток мозга будут отличаться набором активных генов. И они должны «ответвиться» от базового, эмбрионального уровня и активировать тот набор генов, который характерен для их типа ткани.
Но существует ещё механизм сплайсинга. На ранних стадиях эмбриогенеза клетки его почти не используют. Ткани почек и печени почти не используют этот механизм и во взрослом организме, то есть сохраняют ту же структуру генов, что и в зародыше.
Мозг же, по-видимому, не мог бы быть столь сложным без альтернативной регуляции. Он начинает применять этот механизм на ранних стадиях эмбрионального развития. Скорее всего, альтернативный сплайсинг позволяет структурам быстрее эволюционировать. Даже по сравнению с ближайшими родственниками — обезьянами человек начинает использовать более разнообразные формы сплайсинга.
Семь процентов шизофрении
В истории нейробиологии принято выделять два прорыва. Первый случился тогда, когда для диагностики и лечения психических и неврологических заболеваний начали применять имплантированные в мозг электроды. Тогда мы многое узнали о функциях отдельных зон мозга. Второй связан с появлением в арсенале учёных широкого спектра методов неинвазивного исследования мозга, включая различные виды томографии.
Группа Филиппа Хайтовича применяет к мозгу методы, ставшие массовыми относительно недавно. Это так называемые «омиксные» методы, к которым относят геномику (когда смотрят, например, активность генов), транскриптомику (когда по оставшимся в клетках мРНК пытаются установить, какие гены и как в них работали). Это даёт не только фундаментальные, но и вполне прикладные результаты. Так, одно из направлений деятельности Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха связано непосредственно с медицинской практикой. Группа Филиппа Хайтовича занимается разработкой методов диагностики психических заболеваний.
— Филипп, что можно сказать, допустим, обо мне, взяв и проанализировав молекулярный состав тканей моего мозга?
— Можно сказать многое. Но у живого человека взять ткань мозга обычно не получается. Удивительно, но за более чем столетнюю историю изучения таких распространённых психических заболеваний, как шизофрения, депрессия и аутизм, мы до сих пор не поняли их молекулярные механизмы. Мы не понимаем даже механизмы поломки.
Была большая надежда, что генетические исследования позволят открыть как раз эти механизмы, потому что во всех этих заболеваниях есть довольно большая наследственная компонента. Если у одного из близнецов диагностировали заболевание, вероятность диагностировать у второго — около 50%. Наследуемость на таком уровне — это очень много. Но хотя для той же шизофрении исследования проведены на более чем полумиллионе человек, суммарный генетический эффект, который можно было бы связать с риском заболевания, объясняет только около 7% риска. Это очень мало. Причём 7% — это не риск заболеть шизофренией при наличии того или иного генетического маркера. Это показатель того, что у данного человека риск заболеть на 7% выше, чем в среднем по популяции.
Группа Филиппа Хайтовича применяет к мозгу методы, ставшие массовыми относительно недавно. Это так называемые «омиксные» методы, к которым относят геномику (когда смотрят, например, активность генов), транскриптомику (когда по оставшимся в клетках мРНК пытаются установить, какие гены и как в них работали). Это даёт не только фундаментальные, но и вполне прикладные результаты. Так, одно из направлений деятельности Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха связано непосредственно с медицинской практикой. Группа Филиппа Хайтовича занимается разработкой методов диагностики психических заболеваний.
— Филипп, что можно сказать, допустим, обо мне, взяв и проанализировав молекулярный состав тканей моего мозга?
— Можно сказать многое. Но у живого человека взять ткань мозга обычно не получается. Удивительно, но за более чем столетнюю историю изучения таких распространённых психических заболеваний, как шизофрения, депрессия и аутизм, мы до сих пор не поняли их молекулярные механизмы. Мы не понимаем даже механизмы поломки.
Была большая надежда, что генетические исследования позволят открыть как раз эти механизмы, потому что во всех этих заболеваниях есть довольно большая наследственная компонента. Если у одного из близнецов диагностировали заболевание, вероятность диагностировать у второго — около 50%. Наследуемость на таком уровне — это очень много. Но хотя для той же шизофрении исследования проведены на более чем полумиллионе человек, суммарный генетический эффект, который можно было бы связать с риском заболевания, объясняет только около 7% риска. Это очень мало. Причём 7% — это не риск заболеть шизофренией при наличии того или иного генетического маркера. Это показатель того, что у данного человека риск заболеть на 7% выше, чем в среднем по популяции.
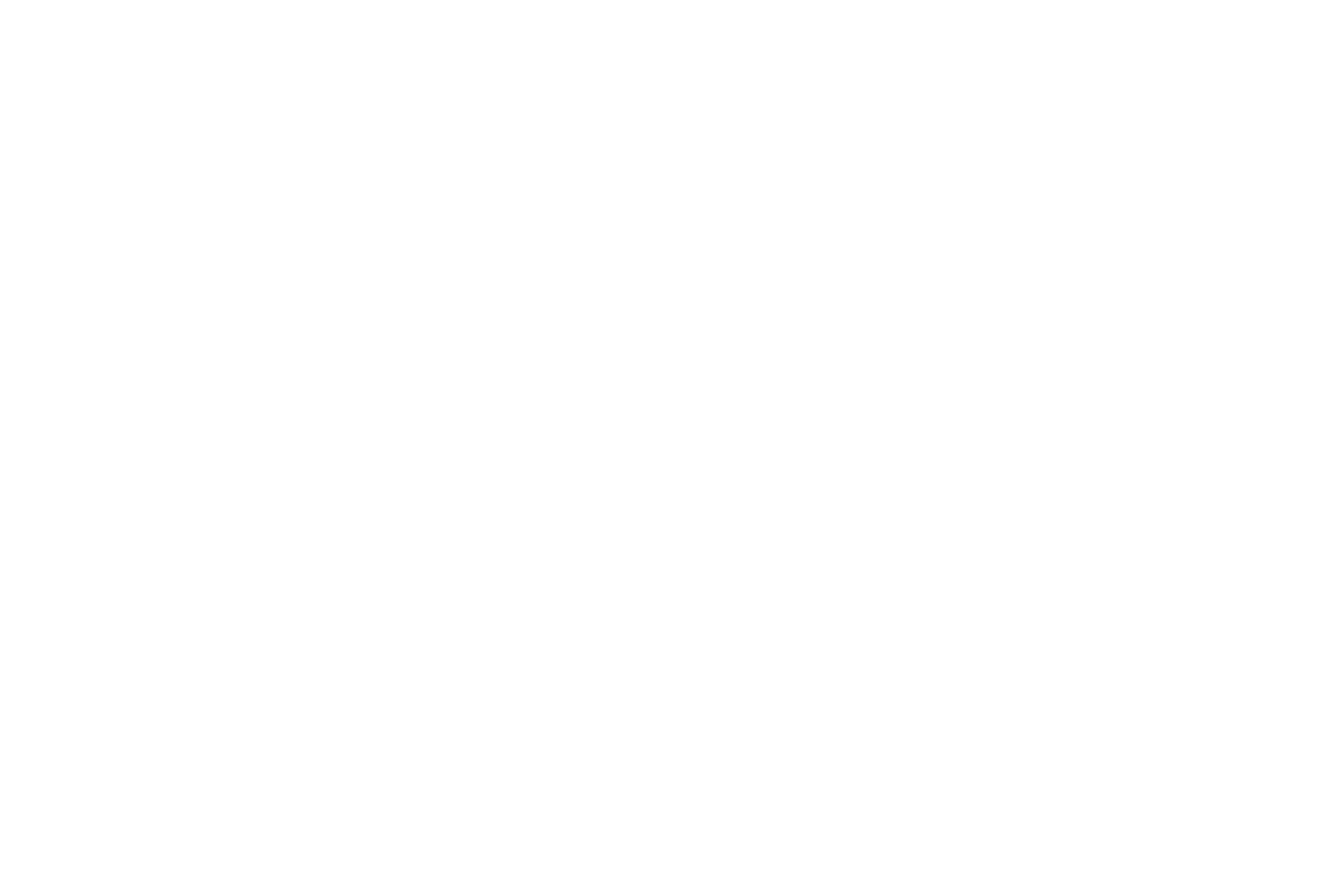
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Но ведь у шизофрении выявили много генетических маркеров, разве нет?
— В том-то и дело, что их слишком много. Если мы их все просуммируем, кумулятивный эффект и составит 7%. А если взять индивидуальный маркер, даже самый яркий, это будет порядка 1% или даже меньше. И это печально по двум причинам. С одной стороны, это не позволяет нам проводить раннюю диагностику и помогать людям, с другой — не даёт добраться до механизма заболевания.
— Взять соскоб со щеки, и сразу всё понятно станет…
— Но ведь цель не просто диагностировать, а понять, как избавиться от заболевания, как проводить профилактику, что предложить людям, может быть, с детства, чтобы у них не развивалась эта болезнь.
— То есть генетика не помогла. А молекулярные исследования?
— Понимаете, в генетических исследованиях взять полмиллиона соскобов со щеки не проблема. Геном во всех клетках одинаков, можно сравнивать, искать маркеры. А в молекулярных исследованиях собрать полмиллиона мозгов и изучить во всей полноте миллиарды клеток каждого… Когда вы смотрите не на генетическую информацию, каждая клетка будет отличаться от другой. Это мгновенно усложняет задачу даже не на порядки — в миллиард раз.
— А если брать среднее, допустим, по кусочку коры?
— Это как раз и пытаются делать. Существующие исследования, их не так мало, фокусируются на очень конкретных регионах мозга — например, на отдельных участках префронтальной коры, — просто потому, что с точки зрения психиатрии, скорее всего, эти участки являются доминирующими в развитии шизофрении.
И это тоже проблема. Если сравнивать с географическими открытиями, то представьте, что Европа уже хорошо исследована, карта есть подробная, а другие части света совершенно размыты, там какие-то чудища плавают. Вот с исследованиями психиатрических заболеваний у нас похожая ситуация. Мозг — это же системная вещь! Понять, что в нём ломается, изучая какой-то определённый кусочек, очень сложно. Поэтому мы пытаемся расширить географию своих исследований, смотреть на большое количество регионов мозга...
— Пазл складываете? Фрагмент тут, фрагмент там…
— Совершенно верно. Например, мы посмотрели на липидный состав мембран 75 регионов мозга, посмотрели на активность генов в 35 регионах. И вот после этого, мне кажется, мы начинаем видеть изменения, которые возникают при шизофрении.
В мозге есть клетки нейрональные и глиальные. При шизофрении их баланс существенно меняется. И мы предполагаем, что этот сдвиг может быть вызван определённым набором регуляторных факторов. Пока это только предположение, но поскольку мы видим скоординированные изменения во множестве разных регионов, это позволяет провести анализ и вычленить ключевых игроков, которые как бы регулируют... Понимаете, если изменения скоординированы, кто-то должен их координировать. Мы можем искать среди регуляторных факторов, кто же подозреваемый, и составить их список. Конечно, это не доказанное преступление, но список подозреваемых уже есть.
— В том-то и дело, что их слишком много. Если мы их все просуммируем, кумулятивный эффект и составит 7%. А если взять индивидуальный маркер, даже самый яркий, это будет порядка 1% или даже меньше. И это печально по двум причинам. С одной стороны, это не позволяет нам проводить раннюю диагностику и помогать людям, с другой — не даёт добраться до механизма заболевания.
— Взять соскоб со щеки, и сразу всё понятно станет…
— Но ведь цель не просто диагностировать, а понять, как избавиться от заболевания, как проводить профилактику, что предложить людям, может быть, с детства, чтобы у них не развивалась эта болезнь.
— То есть генетика не помогла. А молекулярные исследования?
— Понимаете, в генетических исследованиях взять полмиллиона соскобов со щеки не проблема. Геном во всех клетках одинаков, можно сравнивать, искать маркеры. А в молекулярных исследованиях собрать полмиллиона мозгов и изучить во всей полноте миллиарды клеток каждого… Когда вы смотрите не на генетическую информацию, каждая клетка будет отличаться от другой. Это мгновенно усложняет задачу даже не на порядки — в миллиард раз.
— А если брать среднее, допустим, по кусочку коры?
— Это как раз и пытаются делать. Существующие исследования, их не так мало, фокусируются на очень конкретных регионах мозга — например, на отдельных участках префронтальной коры, — просто потому, что с точки зрения психиатрии, скорее всего, эти участки являются доминирующими в развитии шизофрении.
И это тоже проблема. Если сравнивать с географическими открытиями, то представьте, что Европа уже хорошо исследована, карта есть подробная, а другие части света совершенно размыты, там какие-то чудища плавают. Вот с исследованиями психиатрических заболеваний у нас похожая ситуация. Мозг — это же системная вещь! Понять, что в нём ломается, изучая какой-то определённый кусочек, очень сложно. Поэтому мы пытаемся расширить географию своих исследований, смотреть на большое количество регионов мозга...
— Пазл складываете? Фрагмент тут, фрагмент там…
— Совершенно верно. Например, мы посмотрели на липидный состав мембран 75 регионов мозга, посмотрели на активность генов в 35 регионах. И вот после этого, мне кажется, мы начинаем видеть изменения, которые возникают при шизофрении.
В мозге есть клетки нейрональные и глиальные. При шизофрении их баланс существенно меняется. И мы предполагаем, что этот сдвиг может быть вызван определённым набором регуляторных факторов. Пока это только предположение, но поскольку мы видим скоординированные изменения во множестве разных регионов, это позволяет провести анализ и вычленить ключевых игроков, которые как бы регулируют... Понимаете, если изменения скоординированы, кто-то должен их координировать. Мы можем искать среди регуляторных факторов, кто же подозреваемый, и составить их список. Конечно, это не доказанное преступление, но список подозреваемых уже есть.
Поликлиника будущего
— По каким ещё заболеваниям такие списки вообще можно составить?
— Мы будем исследовать мозг людей с депрессией. Вначале были опасения, что депрессия не даёт таких очевидных молекулярных изменений в мозге, как шизофрения. Но предварительные результаты, которые мы получаем, показывают, что и там мозг меняется очень сильно, так что наша следующая задача — сопоставить разные заболевания.
И на этом этапе мы сталкиваемся с очередной проблемой. В психиатрии нет ни молекулярных, ни других биологических инструментов, чтобы поставить диагноз. Это всегда собеседование, и чётко сказать, что у одного шизофрения, а у другого депрессия, бывает сложно. Это всегда набор симптомов, поэтому у людей с шизофренией будут и депрессивные симптомы, а в дополнение к ним, например, слуховые галлюцинации. Возникают толстенные книги, по которым ставится диагноз. Как определители в ботанике: лист такой формы или другой, лепестков пять или шесть.
Но в ботанике все эти признаки ведут к однозначной идентификации. А здесь у вас может быть шесть лепестков и лист совсем другой формы. И как это классифицировать? Возможно, те молекулярные исследования, которые мы ведём и планируем, как раз и позволят понять, насколько это разные заболевания.
— Мы будем исследовать мозг людей с депрессией. Вначале были опасения, что депрессия не даёт таких очевидных молекулярных изменений в мозге, как шизофрения. Но предварительные результаты, которые мы получаем, показывают, что и там мозг меняется очень сильно, так что наша следующая задача — сопоставить разные заболевания.
И на этом этапе мы сталкиваемся с очередной проблемой. В психиатрии нет ни молекулярных, ни других биологических инструментов, чтобы поставить диагноз. Это всегда собеседование, и чётко сказать, что у одного шизофрения, а у другого депрессия, бывает сложно. Это всегда набор симптомов, поэтому у людей с шизофренией будут и депрессивные симптомы, а в дополнение к ним, например, слуховые галлюцинации. Возникают толстенные книги, по которым ставится диагноз. Как определители в ботанике: лист такой формы или другой, лепестков пять или шесть.
Но в ботанике все эти признаки ведут к однозначной идентификации. А здесь у вас может быть шесть лепестков и лист совсем другой формы. И как это классифицировать? Возможно, те молекулярные исследования, которые мы ведём и планируем, как раз и позволят понять, насколько это разные заболевания.
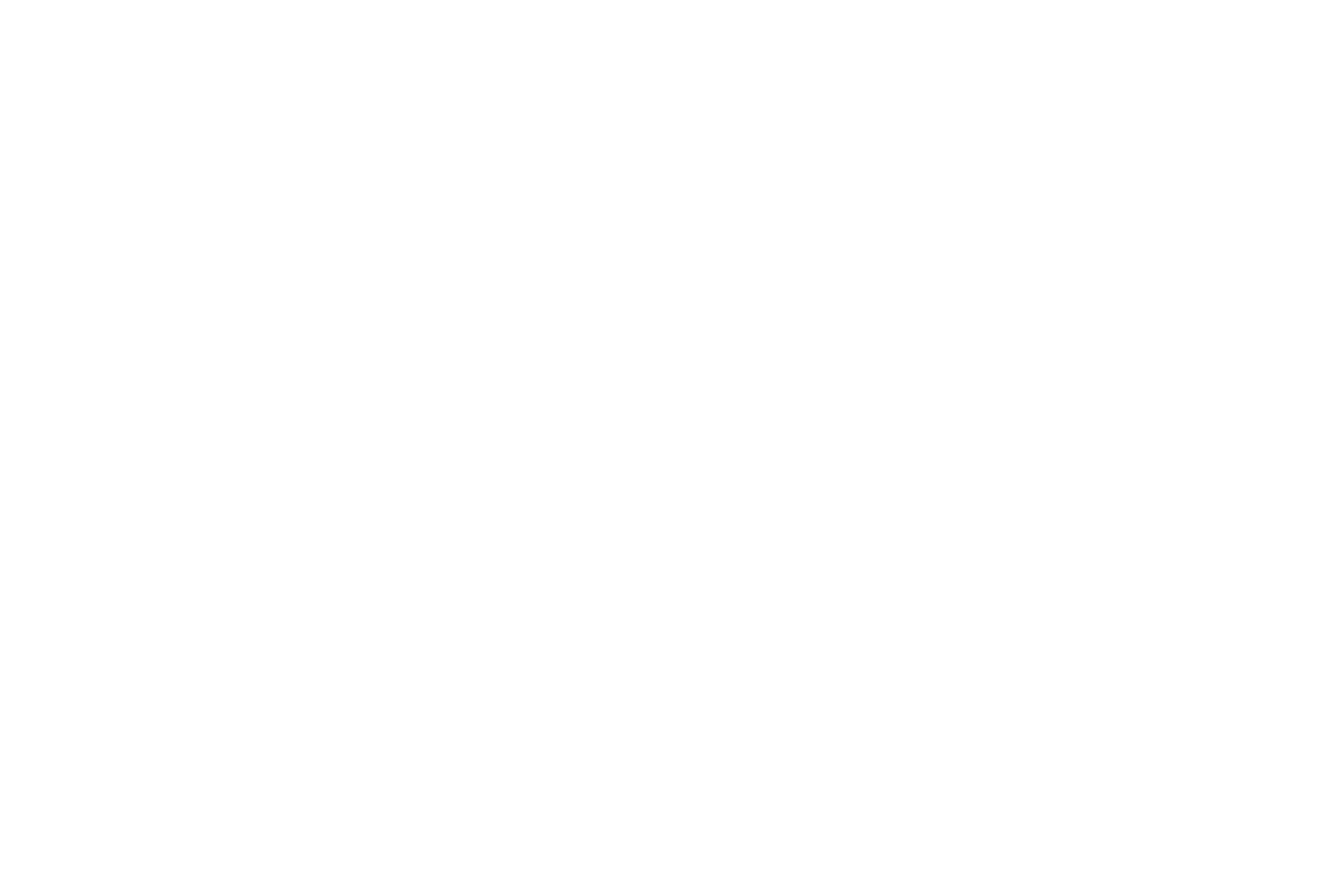
Фотограф: Евгений Гурко /
для "Разговоров за жизнь"
для "Разговоров за жизнь"
— Как же всё-таки быть с моим мозгом? Что можно сказать по его молекулярному составу?
— Здесь нужно пытаться анализировать не мозг, а другие доступные нам данные. И, к сожалению, соскоб со щеки, как мы уже говорили, пока что малоинформативен. Но в плазме крови у нас плавает множество метаболитов, в том числе липиды, которые являются основными компонентами мембран мозга. Собственно, они проходят гематоэнцефалический барьер и попадают в плазму. Они могут быть более информативными в части физиологических состояний.
Существующая панель тестов — холестерин, триглицериды, сахар — не исчерпывающая. Нельзя сказать, что медики, биологи протестировали все имеющиеся в крови соединения, выявили те, которые что-то отражают, и всё остальное определили как мусор. Нет. Поэтому в плазме крови можно искать и соединения, которые могут что-то рассказать о вашем мозге.
— То есть нужно не целевым поиском искать, а всё подряд смотреть и сравнивать?
— Да, это один из возможных подходов. Конечно, с точки зрения мозга плазма крови — очень проблематичный источник информации: она отражает то, что происходит не только в мозге, но и в других частях организма. Но, например, исследования американских лабораторий в Пенсильвании показывают, что определённые липиды начинают проходить через гематоэнцефалический барьер при критической гипоксии мозга.
Можно представить, что это не стена, а, скажем, полицейский кордон. И у сотрудников там проблемы: зарплату, допустим, не дали или не кормили давно. Соответственно, они начинают работать хуже. И тогда через гематоэнцефалический барьер проходит то, что не должно. На практике маркеры гипоксии уже используют. Если серьёзные повреждения мозга вызваны утоплением или удушьем, это можно увидеть по крови. Так можно понять, насколько повредился при гипоксии, иногда возникающей во время родов, мозг новорождённых. Есть определённые маркеры, кардиолипины, которые появляются в плазме крови, только когда мозг серьёзно повреждён.
— Для заболеваний или каких-то других проявлений высших психических функций такие маркеры есть?
— Этими вопросами занимается около двадцати лабораторий — совсем немного в масштабах мира. Недавно наша группа присоединилась к поискам. Мы исследовали комплекс заболеваний с яркими проявлениями — какими-то поломками в мозге. Это шизофрения, депрессия, биполярное расстройство. И нашли панель из нескольких десятков потенциальных маркеров, которые позволяют выявить риск. Не шизофрении, а просто психиатрического расстройства — с точностью выше 90%.
— Выше 90%?!
— Да.
— Ничего себе!
— Но пока это ограничено выборкой. Например, недавно мы вместе с Алексеевской больницей провели слепое тестирование на 120 образцах. Мы не знали, кто чем болен. Да, это всего 120 образцов, но они хорошо сбалансированы. Конечно, нельзя сказать, что это готовое исследование, проведенное на больших выборках, что его можно внедрять в клиническую практику. Тем не менее это очень большой шаг по сравнению с той же генетикой, где такое тестирование сделать просто невозможно.
— То есть, условно говоря, через 25 лет я смогу пойти в поликлинику, сдать анализ, и мне скажут: «Вам бы к психиатру»?
— Думаю, раньше, где-то в пределах пяти — максимум десяти лет. Но наличие маркера никогда не будет диагнозом. Потому что это невозможно сделать со стопроцентной точностью. К сожалению. Ведь если любому из нас сказать «вам нужно к психиатру», никто не пойдёт. Другое дело, если аргументировать: у вас найдены маркеры шизофрении — проверьтесь.
Это нужно не для того, чтобы выявить каких-то социально опасных людей. Шизофрения не проявляется ежедневно, и в ряде случаев удаётся полностью купировать острую фазу. Но для многих это заболевание со временем становится всё более серьёзным и в конце концов ведёт к полной потере валидности. Это проблема и для человека, и для его окружения, и для общества в целом. Это значит, что мы потеряли нормального, активного члена общества.
— Здесь нужно пытаться анализировать не мозг, а другие доступные нам данные. И, к сожалению, соскоб со щеки, как мы уже говорили, пока что малоинформативен. Но в плазме крови у нас плавает множество метаболитов, в том числе липиды, которые являются основными компонентами мембран мозга. Собственно, они проходят гематоэнцефалический барьер и попадают в плазму. Они могут быть более информативными в части физиологических состояний.
Существующая панель тестов — холестерин, триглицериды, сахар — не исчерпывающая. Нельзя сказать, что медики, биологи протестировали все имеющиеся в крови соединения, выявили те, которые что-то отражают, и всё остальное определили как мусор. Нет. Поэтому в плазме крови можно искать и соединения, которые могут что-то рассказать о вашем мозге.
— То есть нужно не целевым поиском искать, а всё подряд смотреть и сравнивать?
— Да, это один из возможных подходов. Конечно, с точки зрения мозга плазма крови — очень проблематичный источник информации: она отражает то, что происходит не только в мозге, но и в других частях организма. Но, например, исследования американских лабораторий в Пенсильвании показывают, что определённые липиды начинают проходить через гематоэнцефалический барьер при критической гипоксии мозга.
Можно представить, что это не стена, а, скажем, полицейский кордон. И у сотрудников там проблемы: зарплату, допустим, не дали или не кормили давно. Соответственно, они начинают работать хуже. И тогда через гематоэнцефалический барьер проходит то, что не должно. На практике маркеры гипоксии уже используют. Если серьёзные повреждения мозга вызваны утоплением или удушьем, это можно увидеть по крови. Так можно понять, насколько повредился при гипоксии, иногда возникающей во время родов, мозг новорождённых. Есть определённые маркеры, кардиолипины, которые появляются в плазме крови, только когда мозг серьёзно повреждён.
— Для заболеваний или каких-то других проявлений высших психических функций такие маркеры есть?
— Этими вопросами занимается около двадцати лабораторий — совсем немного в масштабах мира. Недавно наша группа присоединилась к поискам. Мы исследовали комплекс заболеваний с яркими проявлениями — какими-то поломками в мозге. Это шизофрения, депрессия, биполярное расстройство. И нашли панель из нескольких десятков потенциальных маркеров, которые позволяют выявить риск. Не шизофрении, а просто психиатрического расстройства — с точностью выше 90%.
— Выше 90%?!
— Да.
— Ничего себе!
— Но пока это ограничено выборкой. Например, недавно мы вместе с Алексеевской больницей провели слепое тестирование на 120 образцах. Мы не знали, кто чем болен. Да, это всего 120 образцов, но они хорошо сбалансированы. Конечно, нельзя сказать, что это готовое исследование, проведенное на больших выборках, что его можно внедрять в клиническую практику. Тем не менее это очень большой шаг по сравнению с той же генетикой, где такое тестирование сделать просто невозможно.
— То есть, условно говоря, через 25 лет я смогу пойти в поликлинику, сдать анализ, и мне скажут: «Вам бы к психиатру»?
— Думаю, раньше, где-то в пределах пяти — максимум десяти лет. Но наличие маркера никогда не будет диагнозом. Потому что это невозможно сделать со стопроцентной точностью. К сожалению. Ведь если любому из нас сказать «вам нужно к психиатру», никто не пойдёт. Другое дело, если аргументировать: у вас найдены маркеры шизофрении — проверьтесь.
Это нужно не для того, чтобы выявить каких-то социально опасных людей. Шизофрения не проявляется ежедневно, и в ряде случаев удаётся полностью купировать острую фазу. Но для многих это заболевание со временем становится всё более серьёзным и в конце концов ведёт к полной потере валидности. Это проблема и для человека, и для его окружения, и для общества в целом. Это значит, что мы потеряли нормального, активного члена общества.
Лайфхаки и тот самый вопрос
Проговорив с профессором Хайтовичем больше часа о молекулярном составе мозга и маркерах его патологических состояний, я задал вопрос, что же творится во влюблённых мозгах, почему вместо мыслей в них витает сахарная вата и обезьянка стучит тарелками. Но профессор, как вы уже знаете, лишь подшутил надо мной. Однако беседа на этом не закончилась, и мы успели немного обсудить жизнь — с позиции нейробиологии.
— Вы занимаетесь исследованиями мозга большую часть своей жизни. И знаете про…
— Нет.
— Но всё равно вы знаете про мозг гораздо, в разы больше, чем средний человек.
— Это тоже спорное утверждение. Я что-то знаю про определённые аспекты мозга.
— Помогли ли вам эти знания как-то справляться с собой? Поделитесь лайфхаками…
— То, чем я занимаюсь, пока немного далеко от практических рекомендаций. Главное, что нужно понимать: наш мозг — это часть организма, а не изолированная система. И если мы хотим сохранить наш мозг в хорошем состоянии, нужно следить за общим здоровьем.
Второй аспект: наш мозг — это динамическая система, он постоянно меняется. Он существует для того, чтобы адаптировать наше поведение к взаимодействию с внешней средой, с другими людьми. Но мозг не обладает способностью различать реальную внешнюю среду и иллюзорную. Для него равноценно, что видит глаз на экране телевизора и что происходит в реальной жизни. И чем меньше наше видение мира связано с реальностью, тем менее адекватным образом мы будем на этот мир реагировать.
То же самое, например, с абстрактным мышлением. Если в какой-то момент мы не дали ребёнку информацию, не дали возможность проявить правильную активность, которая потом попала в мозг и сформировала навык, то после определённого возраста это будет невозможно. Например, дети старше 7–8 лет уже не научатся говорить на иностранном языке без акцента. Просто потому, что этим занимается другой отдел мозга.
После рождения наш мозг представляет собой этакий чистый лист. Благодаря поступлению внешней информации в нём запускаются каскады формирования способностей. А если информация не поступает, то и каскад не запускается. Эти аспекты стали для меня более очевидными, когда я начал интересоваться мозгом. Но, к сожалению, мы ещё не настолько хорошо разложили мозг по полочкам, чтобы связать молекулярные аспекты с поведением.
— Вы занимаетесь исследованиями мозга большую часть своей жизни. И знаете про…
— Нет.
— Но всё равно вы знаете про мозг гораздо, в разы больше, чем средний человек.
— Это тоже спорное утверждение. Я что-то знаю про определённые аспекты мозга.
— Помогли ли вам эти знания как-то справляться с собой? Поделитесь лайфхаками…
— То, чем я занимаюсь, пока немного далеко от практических рекомендаций. Главное, что нужно понимать: наш мозг — это часть организма, а не изолированная система. И если мы хотим сохранить наш мозг в хорошем состоянии, нужно следить за общим здоровьем.
Второй аспект: наш мозг — это динамическая система, он постоянно меняется. Он существует для того, чтобы адаптировать наше поведение к взаимодействию с внешней средой, с другими людьми. Но мозг не обладает способностью различать реальную внешнюю среду и иллюзорную. Для него равноценно, что видит глаз на экране телевизора и что происходит в реальной жизни. И чем меньше наше видение мира связано с реальностью, тем менее адекватным образом мы будем на этот мир реагировать.
То же самое, например, с абстрактным мышлением. Если в какой-то момент мы не дали ребёнку информацию, не дали возможность проявить правильную активность, которая потом попала в мозг и сформировала навык, то после определённого возраста это будет невозможно. Например, дети старше 7–8 лет уже не научатся говорить на иностранном языке без акцента. Просто потому, что этим занимается другой отдел мозга.
После рождения наш мозг представляет собой этакий чистый лист. Благодаря поступлению внешней информации в нём запускаются каскады формирования способностей. А если информация не поступает, то и каскад не запускается. Эти аспекты стали для меня более очевидными, когда я начал интересоваться мозгом. Но, к сожалению, мы ещё не настолько хорошо разложили мозг по полочкам, чтобы связать молекулярные аспекты с поведением.
Материал был опубликован в журнале «Кот Шрёдингера» №2 (51) 2022.
Да, журналистов учат, что начинать материал с описания беседы с таксистом — моветон. Автор текста идёт на этот шаг сознательно и просит у критически настроенных читателей быть снисходительнее.
Сплайсинг — это механизм, с помощью которого один и тот же ген может дать начало разным белкам. Сначала с матрицы ДНК, как обычно, синтезируется молекула матричной РНК. Затем ферменты вырезают из неё определённые фрагменты и выкидывают их, а оставшуюся часть мРНК сшивают. С разных мРНК, синтезированных с одного гена, можно вырезать разные фрагменты и, соответственно, получить разные белки. Такой механизм работает не только в молекулярно-генетических лабораториях, но и в наших клетках — естественным образом.
Шизофренией страдает около 1% населения. То есть средняя вероятность, что у того или иного человека шизофрения, составляет 1%. При наличии генетического варианта, повышающего риск заболеть на 7%, человек окажется больным с вероятностью 1,07%.
Гематоэнцефалический барьер — полупроницаемая структура, которая разделяет кровеносную и центральную нервную системы, выступая этаким высокоизбирательным фильтром. Из-за этого барьера многие вещества не проникают в мозг.
Больница имени Н.А. Алексеева — одна из крупнейших и старейших психиатрических клиник Москвы. С 1922 по 1994 год она носила имя П.П. Кащенко и широко известна по старому названию.